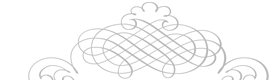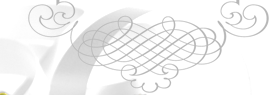Напрасно иногда взывал он к тени милой И ждал - былое вновь придет и воскресит Все то, что мертвым сном спит, взятое могилой, Придет - и усыпит любви волшебной силой Ту жажду счастья, что проснулась и - томит. Напрасно он хотел любовь предать забвенью,-
Чтоб ясный свет ее, утраченный навек,
Не раздражал его, подобно впечатленью
Потухшего огня, который красной тенью,
Рябя впотьмах, плывет из-под усталых век. Напрасно он молил, отдавшись страсти новой:
- Хоть ты приди ко мне с улыбкой на устах!
Чтоб с новой силой мог я к старости суровой
На голове пронесть вражды венец терновый
И крест - тяжелый крест на слабых раменах. Любовь не шла к нему, как месяц из тумана.
Жизнь в душу веяла, как ветер в зимний день.
Сильней час от часу горела в сердце рана,-
Но в новом образе в мир мрака и обмана
Не возвращалася возлюбленная тень.
|
|
Она ему сказала: "Люблю тебя, люблю!"
Он грубо ей ответил: "Люби, я посмотрю!"
Она его молила: "Я без тебя умру!"
Он посмотрел и громко: "Давай, я подожду!"
Она его спросила: "Что делать без тебя?"
Он ей, смеясь, ответил: "Забудешь ты меня…"
Она в слезах шепнула: "Ну хочешь докажу?"
Он ей сказал, не веря: "Давай, ну я же жду!"
И подойдя к окошку, порхнула птицей в тьму,
В последок только крикнув: "Я так тебя люблю!"
И тут кольнуло сердце, он произнес слова:
"Зачем же эта гордость преследует меня?"
Стоял он очень долго, смотрел всё время вниз.
Потом он крикнул громко: "Зачем мне эта жизнь?!"
|
|
Заря разливалась над городом алая.
Я словно девчонка, юная, малая,
Сидела, мечтала одна у окна.
И наблюдала, как путь свой луна
Завершала лениво.
И катятся звезды за гору сонливо.
И чудится мне, будто радость моя
И знает, и любит, и помнит меня.
Прыгаю я из окна, словно птица,
И чувствую, мне без него не летится.
Взглянула я вдруг и вся обмерла:
Подрезаны оба вольных крыла.
И тянется вниз душа и поет
О том, что закончился этот полет
Моей смертью, простой и невинной,
Но всё же жестокой и длинной.
|
Наверно, есть предел для всякой боли. Еще чуть-чуть и сердце не воспримет: Всё грубое, жестокое любое Покажется уколами тупыми. Чего-нибудь перехвати в столовке И дальше день свой волоки, как быдло. Не более булавочной головки
То ноющее, что сияньем было. Мир чепухи твердит мне, что, состарясь,
Об этом вспомню, как о детской коре.
Твердит: еще стихи, стихи остались!
Ах, да. Стихи…А что это такое?
|
|
Ты обо мне забыл уже давно,
И слов моих тобой забыты звуки...
Хотелось бы разбить сейчас стекло,
Чтоб боль ушла в израненные руки...
|
Весной сорок второго года множество ленинградцев носило на груди жетон - ласточку с письмом в клюве. Сквозь года, и радость, и невзгоды
вечно будет мне сиять одна -
та весна сорок второго года,
в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало: "Жду письма". Этот знак придумала блокада.
Знали мы, что только самолет,
только птица к нам, до Ленинграда,
с милой-милой родины дойдет. ...Сколько писем с той поры мне было.
Отчего же кажется самой,
что доныне я не получила
самое желанное письмо?! Чтобы к жизни, вставшей за словами,
к правде, влитой в каждую строку,
совестью припасть бы, как устами
в раскаленный полдень — к роднику. Кто не написал его? Не выслал?
Счастье ли? Победа ли? Беда?
Или друг, который не отыскан
и не узнан мною навсегда? Или где-нибудь доныне бродит
то письмо, желанное, как свет?
Ищет адрес мой и не находит
и, томясь, тоскует: где ж ответ? Или близок день, и непременно
в час большой душевной тишины
я приму неслыханной, нетленной
весть, идущую еще с войны... О, найди меня, гори со мною,
ты, давно обещанная мне
всем, что было,- даже той смешною
ласточкой, в осаде, на войне...
| |